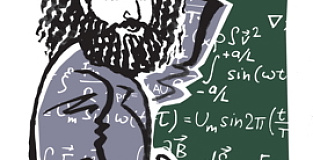читайте также
В кризисные времена, когда у многих уходит почва из-под ног, существенным подспорьем становится доверие — между людьми, сообществами и государствами. Чтобы попытаться понять, как его добиться, мы открываем доступ к одному из самых популярных интервью, опубликованных в «Harvard Business Review Россия».
Доверие — удобное чувство: оно спасает от головной боли и лишних тревог. Между тем, на вопрос «доверять или не доверять?» большинство из нас чаще всего отвечает отрицательно. От чего зависит и на что влияет доверие, рассказывает доктор экономики (PhD), доцент Международного института экономики и финансов НИУ ВШЭ, заведующий Лабораторией экспериментальной и поведенческой экономики, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексей Белянин.
Что такое доверие?
Мне нравится такое определение: доверие — это внутреннее чувство, выражающееся в том, что человек может идентифицировать интересы другого человека со своими собственными. Иными словами, если я кому-то доверяю, я могу полагаться на него, как на себя самого. Чувственная природа доверия означает, что для него нет объективной меры — во всяком случае, пока ее не открыли. Известно, правда, что доверие скоррелировано с определенными гормонами, с токами и процессами в мозгу человека, которые можно измерить. Но это коррелят, а не величина доверия.
Если доверие связано с токами в мозгу, значит, его уровень можно искусственным образом изменять?
Да, и это клинически доказано. Можно, например, ввести человеку определенную дозу гормона — например серотонина, или «гормона счастья», который способствует открытости и благорасположенности духа — и уровень доверия повышается. Но в повседневной жизни сделать это не так-то просто. Поэтому существуют другие способы стимулировать доверие. Например, если вы попадаете в помещение, где играет громкая музыка, где все покрашено в агрессивные цвета (например, в красный и черный), где ходят странные личности и косо на вас поглядывают, — вы наверняка почувствуете нервное напряжение и будете относиться к окружающим вас людям как минимум с осторожностью. А вот другое помещение: мягкий свет, уютная мебель, преобладают зеленые и голубые тона, все улыбаются — и вы, наоборот, расслабляетесь, успокаиваетесь и начинаете относиться к миру с высокой долей доверия. Неспроста первая атмосфера характерна для казино, а вторая — для частных клиник.
Как и когда у человека формируется чувство доверия? Каковы его истоки?
Изначально у человека формируется доверие к матери, оно почти пренатальное, это исходная биологически образованная связь между матерью и ребенком. Идентификация матери с ребенком — процесс очень устойчивый, и проходит несколько лет, прежде чем она разрывается и ребенок начинает вполне осознавать себя как отдельное физическое существо. Если на самом раннем этапе мать показывает ребенку, что мир к нему добр, что его никто не обидит, что ему всегда помогут и защитят его, то ребенок учится доверять окружающим. Если же мать ведет себя по-другому и ребенок видит от нее только негатив, у него возникает недоверие и даже комплекс вины.
Что еще влияет на развитие доверия?
Окружение и — шире — общество, в котором находится человек. Мы знаем, что в некоторых странах уровень абстрактного доверия очень высок. Например, в странах Скандинавии он достигает 60%, а, допустим, в Португалии или Румынии — всего 10%. Это существенный разрыв. Понятно, что в этих странах разный стиль воспитания и отношений между людьми.
А каков уровень доверия в России?
Уровни доверия измеряются как проценты респондентов из репрезентативной выборки, ответивших положительно на вопросы типа «Считаете ли вы, что большинству людей можно доверять, или же в отношениях с людьми осторожность никогда не бывает лишней?» Россия на этой мировой шкале располагается где-то посередине. В СССР замеры доверия по международным методикам не проводились, но многое свидетельствует о том, что раньше уровень доверия в нашей стране был намного выше. В послевоенные годы, уходя из дома, люди могли завязать дверь на веревочку или оставить на двери записку: «Дорогая, ключ, как всегда, под ковриком, суп на плите. Целую, мама». Входи, кто хочет, ешь суп, делай что угодно — не было ощущения, что это чем-то чревато. Разрушение доверия, скорее всего, произошло очень быстро, за один-два года, в 1991—1993 годах, между двумя путчами. Этого времени с запасом хватило, чтобы люди поняли: теперь другая жизнь, другая страна, другая ситуация и полагаться надо преимущественно на себя, а не на ближнего своего. В этот период по национальному сознанию, психике и восприятию людьми общества, в котором они живут, был нанесен сильнейший удар.
Какие страны окружают нас на шкале доверия? В какой компании мы там оказались?
Примерно на этом же уровне находятся многие европейские страны: Великобритания и Германия — несколько повыше, там же, где и США, Франция — чуть пониже. Украина располагается на этой шкале примерно там же, где Россия, Беларусь — немного выше. Уровень доверия зависит не только от материального благополучия. В Эстонии и Израиле доверие низкое, даже ниже, чем у нас, хотя страны довольно богатые, а Эстония — это уже практически Скандинавия. Но эти страны — полиэтнические: в Эстонии есть русское и эстонское население, в Израиле — еврейское и палестинское — и отношения между ними далеки от идеальных. В США много мигрантов, там еще живы люди, которые помнят, что такое расовая сегрегация, и страна не ощущает себя единым организмом. С другой стороны, в короткий исторический промежуток страна доросла до того, что избрала президентом чернокожего Барака Обаму, — и об этом тоже не стоит забывать.
Получается, высокого уровня доверия можно ожидать в моноэтнических и малопривлекательных для иммиграции странах, а также в государствах с жесткой миграционной политикой?
Многое зависит еще и от того, кто в эти страны приезжает и откуда: из государств с высоким уровнем доверия и схожей социальной ситуацией или нет. В полиэтнических странах этот уровень тоже может быть достаточно высок: в Швейцарии, например, есть три сообщества, в Бельгии — два, и они более-менее мирно сосуществуют испокон веков. В Скандинавских странах уровень доверия в значительной степени задается государственными институтами. Да, там высокие налоги — они доходят до 60%, но, забирая у людей деньги, государство тратит их на своих граждан. В этих странах крепкая социальная поддержка: скажем, одинокая мама в Швеции может не работать до конца своих дней. И, наоборот, если она хочет работать, компании создадут для нее все необходимые условия. Скандинавское общество договорилось о том, что такое поведение — норма, и сделало оно это, безусловно, с подачи сверху.
Связано ли доверие с уровнем свободы?
Думаю, что истинное чувство доверия может испытывать только свободный человек в самом глубоком смысле этого слова. Иисус, скажем, доверял человеку, а поздний Карл Маркс — нет. И доверие в этом смысле, конечно, отличается от доверия, перемешанного с фанатизмом в отношении вождей народов, таких как Гитлер или Сталин. Природа этого доверия, перерождающегося в массовый социальный психоз, — отдельная философская проблема. Если же говорить о гражданских свободах, то, как показывают данные, некоторая корреляция между ними и доверием существует, но даже более слабая, чем с ВВП. Гражданские свободы зависят от качества государства, а доверие — от всего общества в целом, так что сопоставлять их не совсем корректно.
А какова связь между доверием и культурой страны?
Культурные факторы существенно влияют на уровень доверия. Например, есть такой эксперимент: группе людей завязывают глаза, впускают их в дом и просят найти из него выход. При этом людям говорят: когда вы устанете или отчаетесь, можете попросить организаторов о помощи, и они вас выведут. Постепенно люди начинают сдаваться и просить о помощи. Но всегда остаются те, кто все равно ищет выход с закрытыми глазами, и чаще всего это люди восточные, в основном китайцы. Такой эксперимент проводили на Тибете, и там никто не обращался за помощью, при том что это был единственный способ выйти из дома. Есть и другие эксперименты, которые показывают, что представителям восточной культуры свойственно более низкое доверие к другим и более высокое доверие к слову вождя, чем западным людям.
Но доверие к вождю, к государству свойственно многим народам.
Да, это в какой-то степени социальная норма. И очень часто это доверие оказывается необоснованным и неоправданным. Германские народы в высокой степени доверяли Гитлеру, наш народ — Сталину. И это доверие не подвергалось массовому сомнению до тех пор, пока эти вожди не умерли. Конечно, были люди, которые понимали, что происходит на самом деле, но их было меньшинство, а общество в целом склонялось к социальной норме, которая гласит: надо доверять вождю, он лучше знает, что делать.
Кажется, что сейчас в России уровень доверия к власти падает. Это нарушение социальной нормы?
Россия очень разная. В некоторых местах доверие к власти очень высоко. Да и по степени осмысленности и обоснованности оно различается. Многое зависит от активности и информированности людей. Мы у себя в лаборатории проводили измерения и выяснили, что в России есть группа просоциально активных людей (примерно 20%) и антисоциально активных людей (примерно 15%), однако средний человек социально нейтрален, ему все равно, что происходит вокруг. Отчуждение от своего социального «я», от своей гражданской идентичности очень характерно для России. Это одно из следствий перестроечных лет, ведь еще в конце 1980-х была другая атмосфера и другая социальная норма: было почти неприлично не думать о стране, о ее будущем. Сейчас мы наблюдаем серьезную социальную апатию, и это представляется мне большей проблемой, чем наличие не только про-, но и антисоциальных групп.
Существует ли корреляция между доверием и недоверием, с одной стороны, и индивидуализмом и социальной ориентацией — с другой?
Мои коллеги Владимир Магун и Максим Руднев из Высшей школы экономики проводили исследование на эту тему, и оно показало: если разложить ценностные суждения россиян на компоненты, то окажется, что у нас преобладают консерваторы, а люди, открытые к изменениям, как правило, оказываются индивидуалистами. Напротив, людей, озабоченных общественными интересами, очень мало — и это основное отличие российской системы ценностей от западноевропейской. Нетрудно предположить, что высокая степень индивидуализма вкупе с консерватизмом (в противоположность открытости) должна приводить к малому радиусу доверия.
Каковы круги доверия среднестатистического россиянина? Что в них входит?
Первый круг доверия — это, конечно, семья. Для нас это важнейшая ценность, мы ей очень дорожим. При этом семья может пониматься более или менее широко. Как правило, это супруги и дети — не важно, какие у вас с ними отношения. Статус семейности определяет высокий уровень доверия, причем зарегистрированные браки обеспечивают большее доверие, а гражданские — меньшее.
Второй круг — это разнообразные отношения братства и сестринства, например войсковое братство. Мы проводили исследования полицейской системы и заметили, что там существуют нормы «сегодня ты, завтра я» и «своих не сдают» — то есть система защищает своих членов. Это характерно для любой мало-мальски замкнутой среды — доверие там необходимо хотя бы для самозащиты. Если хоть одному члену команды корабля, вышедшего в море, будет плохо — то и всем будет плохо. Даже в армии, где свирепствует дедовщина, ценятся понятия «наша рота», «наш экипаж» и т. д.
Еще один круг доверия — доверие, основанное на общем социальном опыте. Ты болельщик «Динамо» — и я болельщик «Динамо», ты застройщик — и я застройщик, ты водитель — и я водитель, даже если ты профессиональный дальнобойщик, а я только на дачу за пятьдесят километров выезжаю воздухом подышать. Это очень сильно сближает — пусть мы больше ничего друг о друге не знаем, мы испытываем одно и то же, у нас общий опыт и общие проблемы. Это ситуативное доверие, которое парадоксальным образом может транслироваться на довольно широкий круг взаимодействий, не обязательно связанных с предметом обоюдного интереса.
Какие институты пользуются у нас наибольшим доверием?
Репрезентативный опрос населения Москвы, который мы проводили в ноябре-декабре 2011 года, показал, что на первом месте по уровню доверия у нас православная церковь — 3,6 из 5 баллов, далее следуют вооруженные силы — 3,13 балла, ФСБ — 2,97 балла, прокуратура — 2,86 балла, полиция — 2,78 балла, правительство — 2,87 балла, парламент — 2,59 балла, суды — 2,71 балла.
Получается довольно кучная картина, но, повторяю, это данные только по Москве, — по России разброс гораздо больше. Доверия к президенту в этом опросе не было, но, по данным других опросов (например, «Левада-центра» (признан НКО-иноагентом)), сейчас в России оно находится примерно на уровне от 30 до 40%. Больше всего здесь, конечно, настораживает низкое доверие к судам — эта цифра самая страшная.
Эта картина в целом объяснима, если учесть источники информации, которыми пользуются люди. Нас, правда, интересовал конкретный вопрос — источники информации о работе полиции, однако по Москве основным источником оказались центральные каналы телевидения — из него черпают информацию от 50 до 60% москвичей. Затем с большим отрывом идут радио и печатные СМИ — у них до 10% и замыкает рейтинг интернет — 5—10%.
Если институты влияют на уровень доверия, влияет ли уровень доверия на институты?
Разумеется. Если вы станете доверять полиции, законам, судам государственным услугам, зачем вам будут нужны полицейские на каждом углу? Граждане сами будут понимать, что закон нарушать не надо, что преступников сильно карают, будут объяснять это своим детям и сами в семье отучать от мысли о правонарушениях тех, кто может стать потенциальным преступником. Если вы доверяете государству и его институтам, то у вас больше оснований эту практику доверия транслировать окружающим людям и они в свою очередь будут чаще оправдывать это доверие и понимать, что окружающим надо доверять. Это взаимосвязанные вещи.
То есть если мы вдруг станем доверять судам, они у нас станут работать лучше?
Про наши суды я бы так не сказал — они у нас, конечно, «самые гуманные в мире», только слова эти неспроста приходится ставить в кавычки. Тот механизм, о котором вы говорите, требует хорошо налаженной обратной связи: если в суде нельзя найти справедливости, о каком доверии к нему может идти речь? И наоборот, если вы как налогоплательщик и гражданин понимаете, что на любую несправедливость можно найти управу, то это изменит ваше поведение и повысит уровень доверия к окружающим.
Другой вопрос, могут ли у нас измениться суды при том, что все остальные институты останутся неизменными? Конечно, нет. Должны произойти серьезные социальные сдвиги, какая-то масштабная трансформация, чтобы это чувство доверия к судам начало восстанавливаться. Сами по себе изнутри они не изменятся — им просто незачем меняться.
Какое влияние доверие оказывает на экономику?
Большой радиус доверия в делах, прежде всего в бизнесе, ведет к уменьшению трансакционных издержек. Грубо говоря, если мы друг другу не доверяем, мы должны проверять качество товара, нанимать экспертов, полицию, частных детективов для проверки партнера, чтобы понимать его подноготную. Это усилия и ресурсы, которые могли бы быть потрачены с большей пользой, если бы у нас не было ощущения, что проверка необходима. Конечно, заплатив полицейскому или аудитору, мы вносим вклад в экономику — повышаем их покупательную способность, но это гораздо менее продуктивно, чем вложение в собственный бизнес.
Хороший пример потери доверия есть у Салтыкова-Щедрина: «Не то беда, если за рубль дают полрубля; а то будет беда, когда за рубль станут давать в морду». Базовое доверие к рублю в том смысле, что им можно пользоваться, означает, что вы можете пойти на рынок, дать рубль продавцу и ожидать, что вам дадут нормальный, а не гнилой товар, и не в морду.
Но более важны, наверное, даже не прямые затраты, связанные с низким доверием, а косвенные. Если у инвестора нет уверенности, что его вложения окупятся, что его права будут защищены, а правила игры неожиданно не изменятся, то не будет и инвестиций. Такие издержки, в отличие от трансакционных, трудно измерить. При этом недоинвестированные средства, вывезенные на Кипр в офшоры или просто спрятанные в кубышку, стоят гораздо больше. Поэтому можно сказать, что трансакционные издержки — это нижняя граница издержек недоверия в экономике. Более того, можно предположить, что свои деньги будут вывозить, а не инвестировать самые производительные люди, и это безусловно ведет к подавлению деловой активности в стране.
Каким образом можно повысить уровень доверия в стране?
Очень полезны в этом отношении совместные социальные практики. Понимание того, что вы можете делать с кем-то общее дело и получать при этом какие-то плоды, очень важно. Пример таких практик — волонтерское движение. Исследования, в которых я принимал участие, показали, что один из важнейших мотивов участия в волонтерском движении — не просто позитивное физическое действие, а осознание того, что ты не один, что есть еще люди, которым не все равно. Это сплачивает даже очень разных по социальному статусу людей.
Точно так же повышают доверие любые совместные гражданские действия, например сбор подписей — за то, чтобы построить детскую площадку или против того, чтобы строить дорогу через лес. Если власти окажут противодействие такой деятельности, это сплотит еще сильнее: люди будут протестовать, и даже если протест будет подавлен, это приведет, скорее всего, только к расширению и росту гражданской активности. Такого рода совместные социальные практики позволяют создавать доверие снизу.
Другой вариант — доверие, созданное сверху. Допустим, власть говорит: «Давайте забудем все, что было до этого момента, начнем с чистого листа и больше никогда не будем друг другу врать». Можно по-разному относиться к этому сценарию, но, если события развиваются таким образом, это дает мощный толчок к укреплению доверия. Показательный пример — Колумбия. Еще лет двадцать назад Богота была одним из самых криминальных городов в мире. Потом пост мэра там последовательно занимали два человека — Антанас Мокус и Энрике Пеньялоса, которые изменили город за какие-то пятнадцать лет. Там появилась социальная инфраструктура, возникло уважение к правилам дорожного движения, к закону, уровень убийств упал на порядок, то есть город преобразился. Огромную роль в этом сыграли, конечно, личный пример и харизма мэров — именно на них реагировали жители столицы.
Конечно, реформы сверху сработают, только если на них есть спрос. Если люди говорят: «мы живем в болоте, и нам тут хорошо, потому что это наша родина», то ничего не изменится. А если общество требует перемен и если найдется пользующийся доверием и популярностью у народа лидер, который встанет во главе реформ, то ситуацию можно будет переломить.
Каковы ваши прогнозы: можем ли мы ожидать повышения уровня доверия в нашей стране?
Если развивать социальные практики, проводить совместные акции, которые сплачивают людей, я думаю, доверие можно повысить. Этот процесс, мне кажется, пошел — медленными темпами, локально: где-то сильнее, где-то слабее. Я считаю, что способствовать этому процессу — в некотором роде гражданский долг любого человека, который чувствует себя связанным с Россией.
Однако если рассуждать реалистически, то я вижу больше поводов для пессимизма, чем для оптимизма, прежде всего потому что большинству граждан нашей страны нет до нее дела. К тому же в России много разных разобщенных групп людей, которые в любой момент готовы сорваться с места и пойти друг на друга войной. Все это внушает очень большие опасения. Хватит ли у общества ответственности и зрелости, чтобы все вопросы решать переговорами, а не дубиной, не известно. А ведь это еще и вопрос внутренней картины мира и доверия к окружающим, в том числе к инакомыслящим. И тем не менее мне все-таки хочется оставаться в рядах оптимистов: ведь все позитивное, что сделано на земле, сделано именно их руками, а такие дела обязательно окупятся в исторической перспективе.