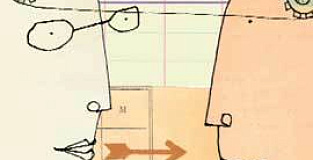читайте также
О том, в какой ситуации находится российская экономика, как ее реанимировать и на что делать ставку в будущем, рассказывает доктор экономических наук, декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, президент Института национальных проектов, член Экономического совета при Президенте РФ и Правительственной комиссии по проведению административной реформы Александр Александрович Аузан.
Какой диагноз вы бы поставили российской экономике?
Сейчас наступает клиническая смерть экономики. Это состояние, когда останавливается экономическое сердце — инвестиционный мотор. Замедление идет с 2011 года, это не неожиданность для экономистов. Санкции, падение цен на нефть только обострили и ускорили то, что все равно бы произошло.
Почему экономическое сердце перестает биться?
Потому, что страна 50 лет, с 1965 года, с открытия Самотлора — крупнейшего в России нефтяного месторождения — боролась с желанием выйти на пенсию. Месторождение было открыто в тот момент, когда пытались проводить косыгинские экономические реформы. И власть решила: бог с ними, с реформами, когда есть нефть. С тех пор это решение неоднократно воспроизводилось разными властями страны. Семь-восемь лет назад экономисты, работавшие над стратегией 2020, дружно сказали: «Сырьевая модель уходит, внутренний спрос недостаточен, поэтому нужно менять модель, иначе произойдет необратимое». Это необратимое и происходит.
Тогда никто не прислушался?
Нефть подорожала, поэтому сработал привычный способ анестезии. Когда она стоила 40 долларов, говорили: «Да, надо что-то делать». А когда цена на нефть поднялась до 110, сказали: «Отойдите, жизнь налаживается».
Как оживить экономику?
Когда наступает клиническая смерть, первым делом надо запустить сердце. Откладывать нельзя. Это еще не переход к новой модели, это спасение экономики от падения. Именно это — а не социальная стабильность и не диверсификация — наша главная задача на ближайшие три года. А уже потом надо думать, как переходить к новой модели.
Каким образом можно запустить инвестиционный мотор?
Есть два способа. Первый — провести структурные реформы, создать привлекательный инвестиционный климат, и тогда начнет работать магнит, притягивающий частные инвестиции, отечественные и зарубежные. Это курс, на котором настаивают правительство и Центральный банк России. Я считаю, что делать это нужно, но эффекта не будет: для того, чтобы притекли инвестиции, недостаточно улучшить инвестиционный климат. Потому что идет война — холодная, экономическая, которая периодически вспыхивает и как горячая отнюдь не в рамках гражданской войны на Украине, — все гораздо шире и серьезнее. Этот факт резко противоречит либеральному экономическому курсу правительства. Если действует режим санкций, какие могут быть иностранные инвестиции?! Плюс война — это всегда риски для отечественных инвестиций: не понятно, чего ждать и что будет.
Можем ли мы сделать ставку на восточные рынки?
Нам их не хватит, у них другая структура. Чтобы подобраться к арабским «исламским финансам», нужно 10—15 лет. К тому же по мощности эти рынки резко уступают западным. Так что мы не можем проводить этот курс без европейских и североамериканских финансовых рынков.
Каков второй способ лечения экономики?
Вброс государственных инвестиций. К сожалению, их гораздо меньше, чем представляется многим, потому что мы не должны рассматривать резервы Национального банка как источник таких инвестиций: они нужны только для поддержания макроэкономической стабильности. Сегодня госинвестиции могут составить по разным расчетам от семи до девяти триллионов рублей, и это совсем не много. До кризиса годовые инвестиции в России были 15 триллионов, так что нынешних средств не хватит и на год. Кроме того, государственные инвестиции — это нечто вроде электрошока, стимуляция сердца. Оно начнет стучать, но потом снова может остановиться.
Если делать массовый вброс государственных инвестиций, наверняка придется вводить валютные ограничения по периметру, иначе деньги исчезнут — их быстро и незаметно для нас поглотит мировой рынок. Ввести эти ограничения проще, чем остановить холодную войну. Они не коснутся населения, конвертации — только движения капиталов. Но это все равно плохо: если всех впускать и никого не выпускать, инвесторов не останется.
Я убежден, что метод вброса госинвестиций будет применен. Даст ли он результат, неизвестно. Конечно, удастся запустить какие-то проекты, в основном инфраструктурные, в том числе, может быть, важные для нашего самоощущения: космос, Арктика. Удастся поднять темпы роста — не до пяти процентов, но до двух-трех к 2018 году. И все. Если не заработает постоянная связка государственных и частных инвестиций, то темпы все равно упадут — только резервов уже не будет. И мы окажемся в той же точке, но в более тяжелом положении.
Какое решение предлагаете вы?
Нужно внедрять сложные схемы государственно-частного партнерства, создавать специальные общества для инвестирования в инфраструктуру, чтобы под гарантии государственных денег выпускать облигации и вкладывать частные деньги, например пенсионные, под государственные гарантии их доходности. То есть сплетать такие комбинации государственных и частных денег, чтобы был не только впрыск адреналина, заставляющий сердце биться, но и пошла поддержка частных инвестиций. При этом надо закончить войну. Это задача не гуманитарная, не военно-политическая, а экономическая. Иначе, как бы мы ни улучшали климат, мы не получим для нашей промышленности достаточных дешевых кредитных ресурсов.
Как закончить войну?
Трудный вопрос. Мне кажется, важно разработать, как я его называю, «план мирной авантюры». Из-за грома военно-политических новостей мы забыли, что происходит с экономикой Украины. Она фактически на грани дефолта и банкротства. Это 45-миллионная страна, крупный транзитер, который не только российский газ перекачивает, но и остается нашим каналом общения с Евросоюзом — главным деловым партнером России. В случае краха украинской экономики неприятности затронут очень многих — Польшу, Белоруссию, Россию, Молдову, Румынию, далее везде. Разрушится социальная система — и будет не миллион беженцев, а значительно больше; возникнут затруднения с транзитом.
Мы должны вместе с Европой предотвратить этот крах. Может быть, для этого надо создать экономическую группу в нормандском формате: Россия, Украина, Германия, Франция. Америка тут ни при чем, для нее это геополитический, а не экономический вопрос. Ни одна из сторон не осилит этот план в одиночку: он дорогой. От Украины тоже потребуются жертвы: ей придется из режима проедания денег перейти в режим сложных реформ, пока не понятно каких.
Спасение украинской экономики не только помирит нас с Европой, но и даст нам дополнительные выгоды: восстановление отношений с Украиной — это еще и восстановление промышленных цепочек, которые нужны обеим странам.
Давайте посмотрим на долгосрочный аспект реанимации нашей экономики. Как нам перейти к новой модели?
Хотя разговоры о необходимости перехода на другую модель ведутся давно, сырьевой характер нашей экономики усиливается. На мой взгляд, неверно поставлена сама проблема, раз она не решается. Это не проблема диверсификации. Диверсификация — это «давайте делать что-нибудь еще, кроме добычи нефти». Мы попробовали делать свои автомобили — не получается. Я утверждаю, что и не получится. Поэтому постановка вопроса должна быть такой: «Чем мы можем заместить привычный минеральный ресурс?». Я полагаю, что у нас есть не менее конкурентоспособный ресурс — человеческий потенциал. Мы 150 лет, со времени появления современной науки в России, поставляем миру разного рода таланты. С тех пор на всех перспективных направлениях есть русские специалисты, которые, правда, разрабатывают или внедряют свои идеи в Европе и в Америке. Экономический масштаб этого явления колоссален. Академик Р.М. Энтов подсчитал, что Владимир Зворыкин, автор телевидения, одной идеей создал продукт, равный двадцати годовым продуктам нынешней Российской Федерации. Главная проблема этого ресурса в том, что он «летучий». Если нефть можно загнать в трубу и продавать по контракту, то с талантами это не пройдет. Их можно загнать в шарашку, идеологически мотивировать и некоторое время получать продукт, потому что «родина в опасности». Но долго на этом не продержаться.
Если мы в состоянии много лет производить качественный человеческий капитал, это должно стать нашей мировой специализацией. Нужно на наши университеты замкнуть мировые студенческие потоки и сделать это предметом экспорта. Заметьте, у нас уже предметом экспорта мирового уровня являются в основном интеллектуальные продукты, потому что, повторяю, автомобиль, телевизор, холодильник высокого класса мы сделать не можем, а фильм — можем. Экспорт игры «World of Tanks» из России по выручке превысил экспорт реальных танков. Для меня это очень важный и приятный факт. Мы должны поддерживать эти тренды.
Почему мы не можем делать автомобили и телевизоры, а другие гораздо более технически сложные продукты — можем?
Да, мы можем сделать космический корабль, атомную бомбу или гидротурбину. Чем их создание отличается от создания массового холодильника или автомобиля? Тем, что для производства конкурентоспособного автомобиля нужно соблюдать стандарты: чтобы лампочки горели, чтобы допуски были соблюдены и т. д. Нам это очень плохо удается в силу давно заложенных культурных свойств. А вот креативные задачи мы решаем легче. Еще Карамзин писал о русском крестьянине, который каждые семь лет меняет поле, — ему нет смысла работать по стандарту, потому что каждый раз придется осваивать новое поле. Мы внуки того крестьянина. Страна Левшей. Это и хорошо, и плохо. Это означает, что мы можем делать какие-то вещи, которые не может делать никто. Как сказал один американский менеджер, проходивший наш опрос в 2011 году, «если вам нужна одна уникальная вещь — закажите русским, если нужны 10 одинаковых — заказывайте кому угодно, только не русским».
Исходя из этого, какие отрасли нам стоило бы развивать?
Сферы мировой специализации, которые нужно класть в основу стратегии на ближайшие 15 лет, — это уникальные малосерийные продукты, опытные производства, креативные индустрии. Я бы назвал еще одну сферу, где не обязательно соблюдать стандарт, потому что там очень велики допуски, — простые массовые продукты. Например, автомат Калашникова, который, как говорят технологи, ремонтопригоден при помощи кулака.
Можем ли мы переломить свое неуважение к стандартам?
С помощью образовательной, культурной политики, театров, интернета, телевидения можно менять ситуацию так, чтобы стандарт и закон стали определенной ценностью. Стандарт и закон — это одно и то же: правила поведения, только одни — в технической сфере, другие — в общественной. Страны, которые уважают стандарты, обычно уважают и законы, как, например, Германия. Но мы знаем времена, когда немцы не уважали законов и стандартов. Сравнительно недавно, еще в XVIII веке, они были нацией мечтателей и поэтов. Образ немца — сторонника порядка возник в последние 200 лет в результате сознательных действий германских элит. Его создавали железом и кровью, школой, армией и тюрьмой. Точно так же представление о том, что англичане всегда были сторонниками эволюционного развития на основе традиций, — иллюзия. Они такими стали после «Славной революции», в XVIII веке. А до этого они были первыми людьми, которые казнили своего монарха, которые вели кровавые гражданские войны, участвовали в Столетней войне, — в общем, об эволюции и традициях речь не шла. Так что все можно изменить, если захотеть.
Чтобы человеческий капитал стал конкурентоспособным ресурсом, нужно создать условия, при которых талантам было бы комфортно здесь жить и работать. Что для этого нужно?
Одно из важнейший открытий последних лет его авторы Дарон Асемоглу и Джеймс Робинсон сформулировали в своей книге «Почему нации терпят поражение». Суть открытия в том, что европейские колонисты в разных странах создавали разные институты. В Конго, где нужно добывать алмазы, — экстрактивные институты, чтобы проще было выдавливать ренту, а в Канаде, где они собирались осесть, — инклюзивные, чтобы жить было хорошо. Россия — страна экстрактивных институтов: здесь хорошо извлекать прибыли, но семью лучше держать где-то еще. Вахтовый метод жизни — наиболее подходящий для таких стран. Чтобы талантливым образованным людям в России было комфортно, надо изменить тип институтов.
Как это сделать?
На мой взгляд, к этому есть три ключа — о них в своей книге «Насилие и социальные порядки» пишут Дуглас Норд, Джон Уоллис и Барри Вайнгаст. На основе исторического анализа Англии, Франции и США авторы пришли к выводу, что существуют три так называемых граничных условия, выполняя которые успешные страны начинают отличаться от неуспешных. Первое. В успешных странах элиты делают законы для себя, а потом распространяют на других. В неуспешных — законы создают для других, а для себя делают исключения. Второе. В успешных странах организации — политические, коммерческие, некоммерческие — живут деперсонализировано, после того как уходят или умирают их создатели. В неуспешных — организации приспособлены под создателей и болеют или умирают после их ухода. И третье. В успешных странах элиты контролируют насилие коллективно, в неуспешных — делят контроль насилия: тебе военно-воздушные силы, мне тайную полицию.
Все три признака в нашей истории так или иначе встречались. Коллективный контроль насилия был после Сталина, его ввело политбюро ЦК КПСС. Деперсонализированность организаций — была: КПСС, комсомол, ВЦСПС научились жить без товарищей Ленина, Сталина, Хрущева, Брежнева. У нас не было производства законов для себя и распространения их на других. Это попробовал сделать Горбачев, но, к сожалению, ничего не вышло.
Что мы должны предпринять, чтобы решить эти три задачи?
Вопрос о законах, на мой взгляд, — это сейчас вопрос о налогах. Человек должен осознавать, что он платит налоги и за что он их платит, — и тогда он поймет, для чего ему законы и чего он хочет от государства, кроме законов.
Чтобы добиться деперсонализации, нужно провести реформу наследования. Страну контролируют 60-летние, и сегодня они подходят к рубежу, когда надо решать, как передавать наследство. Сейчас эта проблема урегулируется через офшор, потому что там семье можно оставить доходы, а управление ей не передавать. По-
моему, Уоррен Баффет сказал: «Если вы хотите гарантированно проиграть олимпиаду, создайте сборную из детей победителей предыдущих олимпиад». В жизни мы почему-то пытаемся так действовать. Если не провести реформу наследования, отцы и матери будут когтями держать империи и приспосабливать их под себя.
Что нужно, чтобы установить коллективный контроль над инструментами насилия, я не знаю. Либо очень низкое доверие друг другу, либо страх. Между прочим, независимость суда — не что иное, как коллективный контроль применения насилия, потому что элиты должны выпустить суд из сферы своего влияния. В 1990-е в системе защиты прав потребителей миллионы людей пользовались судебным рычагом, и он работал. Так что все возможно.
Что еще мешает нам перейти к инновационной экономике?
Одновременно три социокультурные особенности: высокая дистанция власти — представление о том, что на власть повлиять нельзя; низкая договороспособность и индивидуализм — самоорганизация сейчас очень плохая; высокая степень избегания неопределенности — страх перед будущим: если ты ни на власть не можешь повлиять, ни с другими договориться, конечно, будущее пугает. Поэтому лучше сохранять статус-кво.
Когда мы померили, что происходит в университетах, выяснилось: для нынешних студентов высокое избегание неопределенности не характерно. Важно это сохранить и сознательно культивировать в системе образования. Кроме того, нужно увеличивать длину взгляда. Если у человека годовой взгляд, он пилит деньги из бюджета, пока они оттуда не вышли, если пятилетний — пилит, но не все, а если десятилетний — вообще не пилит. Долгий взгляд развивается пониманием глубины истории (взгляд в прошлое влияет на взгляд в будущее), кругом общения, университетской междисциплинарностью и т. д.
Какие сейчас у России должны быть приоритеты с геополитической точки зрения?
Я считаю, что курс евроазиатской интеграции был правильным. Имеет ли место противостояние с США? Да. Будет ли оно иметь место? Да, потому что мы прошли точку невозврата — санкционные режимы заложены в законодательство. Теперь мы долго будем вынимать эту занозу. Проблема сейчас в том, что наши три процента мирового оборота противостоят американо-европейским 45 процентам. Когда сталкиваются два тела разной массы, более тяжелое даже не замечает столкновения, а легкому приходится несладко. Поэтому нам надо наращивать массу, чтобы заниматься геополитической конкуренцией. Это значит — развивать интеграцию, например улучшать отношения с Астаной и Минском; я думаю, что и Киев — не потерянное для нас направление. Это первый приоритет. Второй — Европа. Но Европы, по моему мнению, — две: латинского и византийского происхождения. Мы, как Греция, Болгария и Румыния, которые не очень уютно себя чувствуют в Евросоюзе, — Европа восточно-римская, византийского происхождения. Она другая по институтам и плохо монтируется с латинской Европой, прямой наследницей римского права.
Поэтому сначала нам надо интегрироваться с Европой восточно-римского происхождения?
Да. А Евросоюзу нужно осознать, что идет еще и социокультурный диалог этих двух Европ, что правила общеевропейского дома должны учитывать обе традиции — институциональные, правовые, культурные и т. д. Прямая интеграция Болгарии, например, в традиции Западной Европы дает очень печальные результаты для обеих сторон. И так будет до тех пор, пока западноевропейская система не начнет учитывать поведенческие, ценностные особенности и механизмы поддержания закона, которые давно существуют в «восточно-римских» странах.
Занимаясь геополитикой, нужно принимать во внимание так называемые культурные волны. Они бывают разной длины. Например, в 1905 году в Российской империи была ликвидирована черта оседлости, а последствия, согласно замерам 2013 года, заметны и сейчас. В тех регионах, где было противостояние еврейских и нееврейских групп, возникли особые нормы в группах, которые противостояли евреям и руководствовались антипредпринимательскими и антирыночными ценностями. Поэтому районы, где была черта оседлости, плохо развиваются.
Каков ваш прогноз на ближайшие, скажем, 15 лет при благоприятном развитии событий (если удастся закончить войну, начнется переход к новому типу институтов и т. д.)?
Через 15 лет Россия будет восприниматься прежде всего как страна умная, а не сырьевая, и интеллектуалы из разных стран будут рассматривать для себя вариант жизни в России как один из приоритетных. В реальности все будет не совсем так, но очень хотелось бы двигаться в этом направлении.